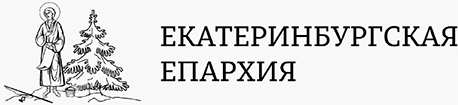Константин Минятов [1] родился 11 мая 1874 года в городе Орле в семье капитана артиллерии Александра Викентиевича и его супруги Александры Константиновны Минятовых.
Происходя из дворян Ковенской губернии, Александр Викентиевич был католиком, а его супруга – православной; младенец был крещен в Крестовоздвиженской православной церкви в городе Орле с именем Константин. Александр Викентиевич скоро скончался, и его супруга вышла замуж за статского советника Рупасова, владельца имения Глинки при станции Жуковка Риго‐Орловской железной дороги. Семья впоследствии переехала по месту службы отчима в Ташкент, и Константин, начав учиться в 1883 году в Орловской гимназии, из‐за переезда семьи окончил в 1892 году Ташкентскую гимназию и поступил в Санкт‐Петербургский университет, где учился сразу на двух факультетах – на естественном отделении физико‐математического и на юридическом.
Будучи студентом, Константин женился на девице Надежде, дочери священника Павла Николаевича Ягодовского, служившего в церкви Михаила Архангела в селе Комаровка Борзнянского уезда Черниговской губернии. В 1893 году Константин был командирован Санкт‐Петербургским обществом естествоиспытателей на Соловецкую биологическую станцию, тогда же он посетил с научными целями Германию, Данию, Швецию и Норвегию.
В университете молодой человек увлекся народническими социалистическими идеями, почти целиком захватившими тогда учащуюся молодежь; он писал в то время супруге: «Считал бы для себя высшим счастьем, какое только возможно для человека, принести себя в жертву за народное освобождение»[2]. Он завел знакомство с рабочими брянского завода и ремесленниками в Орле. «В своих разговорах со всеми этими ремесленниками и рабочими я старался, – говорил он впоследствии на допросе, будучи привлеченным к ответственности, – освещать их общественное положение с точки зрения, принципиально враждебной их хозяевам, указывал им на организацию в запрещенные законом временные и постоянные союзы, как на единственное средство к улучшению условий существования, сообщал им о всех доходивших до меня сведениях о стачках, протестах, демонстрациях и вообще проявлениях массового движения рабочих против хозяев в России и Европе и, наконец, собирал сведения о фактических условиях их труда в заведениях их хозяев с целью выяснить впоследствии себе и им наилучший и наипрактичнейший способ организации и протеста»[3].
В 1894 году Константин Минятов был привлечен к следствию по делу «Партии народного права», организованной в 1893 году в Саратове, но уже в 1894 году из‐за вмешательства полиции прекратившей своей существование. В 1895 году он был отчислен из Санкт‐Петербургского университета «за участие в студенческой агитации в пользу подачи петиции на высочайшее имя о пересмотре университетского устава 1884 года»[4], но продолжил слушание лекций с осени 1895 года по весну 1896 года в Казанском университете. В 1895 году полиция установила за ним негласный надзор. В 1896 году Константин Александрович выехал в свое имение, где на его средства был приобретен ротатор и отпечатаны две брошюры и воззвания к московским рабочим. В ноябре 1897 года он выехал в Германию и поселился в Берлине, «слушая лекции и пользуясь указаниями профессоров местного университета, предпринимая в каникулярное время поездки в другие государства Западной Европы, Балканского полуострова»[5]. В ночь на 12 декабря 1897 года полиция произвела обыск у супруги Константина Александровича, Надежды, по делу «О московском рабочем союзе». У нее были найдены письма мужа, из которых стало очевидно его увлечение марксистской литературой, а также и то, что он, «бывая в Петербурге, Орле, Варшаве и Берлине, искал знакомства с тамошними нелегальными кружками и вращался среди лиц политически неблагонадежных»[6] – как писалось о нем в полицейском отчете.
Вызванная на допрос, Надежда Павловна виновной себя не признала. После обыска и допроса она уехала на родину, поселившись в доме отца священника в Комаровке, и была поставлена под надзор полиции.
26 декабря 1898 года Надежда Павловна выехала вместе с детьми к мужу в Берлин. В 1899 году она была подчинена «гласному надзору полиции на два года с правом проживания вне столиц, столичных губерний и университетских городов»[7]. С этого времени она была вместе с мужем объявлена в розыск и как только 24 марта 1900 года въехала в пределы России, то была тут же задержана и препровождена к отцу священнику в село Комаровку.
Живя за границей, Константин Александрович, однако, увидел, что то западное общество, которое образованные русские люди считали своим наставником и дорогим учителем, поклоняясь ему как кумиру, вовсе не было, как ожидалось ими, столь радикально‐революционным и отнюдь не преследовало широких преобразовательных целей, как это виделось студенческой молодежи из университетов России. Оказавшись в Германии и вспомнив свою жену и тестя‐священника Павла Ягодовского и то, чем живет русский народ и насколько для него важно православие, Константин Александрович как будто очнулся и, придя подобно блудному сыну в себя, стал регулярно посещать посольскую церковь в Берлине, настоятелем которой был тогда выдающийся пастырь протоиерей Алексий Мальцев. Но путь в Россию, где его ждало уголовное наказание, был закрыт, и его супруга, Надежда Павловна, уговорила его направить письмо правительству и просить о помиловании.
В сентябре 1900 года Константин Александрович направил письмо товарищу министра внутренних дел князю Святополк‐Мирскому с просьбой, чтобы «по возвращении в Россию быть судимым не исключительно на основании лишь уже пережитых увлечений»[8]. Эта просьба была подкреплена ходатайствами обер‐прокурора Святейшего Синода Константина Победоносцева и настоятеля посольской церкви протоиерея Алексия Мальцева, что давало некоторую надежду на благоприятный исход.
22 сентября 1900 года при въезде в Россию Константин Александрович был арестован и 23‐го и 25 сентября допрошен. Отвечая на вопросы следователя, Константин Александрович сказал: «Виновным себя в принадлежности к сообществу, именовавшему себя “Рабочим союзом” и имевшему целью возбуждать вражду рабочих к хозяевам… я не признаю… Мною никогда не было сделано ни одной попытки создать какую‐либо организацию вроде союза, рабочей кассы, кружка самообразования или самопомощи или хотя бы библиотеки… ни в одном случае я не призывал рабочих непосредственно к каким‐либо враждебным против хозяев или государства действиям… я не собирал среди них и не передавал им никогда никаких денег для каких бы то ни было целей… ни одного из своих знакомств я никогда не передавал другим лицам, так что они никогда не утрачивали характера совершенно личной связи… каждое из этих знакомств продолжалось чрезвычайно мало времени и оканчивалось и произвольно, и так же случайно, как и начиналось… в глазах рабочих я всегда оставался только самим собой и никогда не называл себя членом партии, кружка или союза… в общем, я более интересовался фактическим бытом рабочих, нежели стремился изменить его и… все эти опыты “пропаганды”, если только можно их так назвать, не имели ровно никаких последствий…
Во всей той противозаконной деятельности, которой я был участником и наблюдателем, я не могу признать каких‐либо признаков сообщества, так как случаи сотрудничества нескольких лиц вроде, например, приобретения мимеографа или мимеографирования у меня в имении стоят совершенно одиноко, не находятся между собой во внутренней связи и представляются отдельными и случайными попытками каждый раз вновь и случайно согласившихся между собою лиц»[9].
Рассказывая на допросах о своей прошлой деятельности, Константин Александрович не назвал, однако, ни одного имени своих прошлых товарищей. Следователи остались этим недовольны, и тот вынужден был объясняться. «Во всех предыдущих своих показаниях, – сказал он, – я избегал умышленно называть имена лиц, привлекавшихся по тому же делу; к этому вынуждает меня несколько исключительное положение, в котором я нахожусь как относительно этих лиц, так и относительно самого моего дела. Между мной и проступками, в которых я обвиняюсь, так же как между мной и всеми сообвиняемыми, нет более той нравственной связи, которая могла бы быть, если бы я разделял по‐прежнему взгляды и оценки, лежавшие в основании моих революционных опытов. Это исключительно внешнее, если можно так выразиться, отношение и к своему делу, и к своим бывшим товарищам обязывает меня к чрезвычайной нравственной щепетильности в отношениях к людям, которых безграничным доверием я пользовался, которых отчасти сам наталкивал на проступки, за которые теперь они более или менее тяжело расплачиваются, и с которыми разлучают меня мои настоящие, глубоко изменившиеся воззрения. С нравственной точки зрения поэтому малейший оттенок предательства мог бы в моих собственных глазах запятнать всю развязку моего дела, в которой я хотел бы, наоборот, видеть искренний, чистый и безукоризненный расчет с прошлым. Поэтому я должен предпочесть даже самое отягощение своей вины всякому такому облегчению ее, которое могло бы бросать малейшую тень на мои отношения к бывшим товарищам и нравственно уединило бы меня больше, чем самая строгая кара. При этом следует заметить, что с практической точки зрения мое предательство не имело бы для дознания ровно никакой цены, так как мои показания касались бы исключительно уже обвиненных лиц и ничего кроме ничтожных мелочей не могли бы прибавить к их обвинительному акту. Надеюсь, что эти соображения будут приняты при оценке этих показаний»[10].
После допросов он был освобожден и в жандармском отделении «ему даны были словесные обещания, позволяющие надеяться не только на благоприятный приговор, но и на возможность кончить прерванное русское университетское образование»[11].
В октябре 1900 года Константин Александрович подал прошение министру народного просвещения с просьбой разрешить окончить в России образование и «вознаградить громадный ущерб, нанесенный мне и моей семье, – писал он, – моими собственными увлечениями, оторвавшими меня от возможности найти помещение своим силам и возможностям…»[12]. Прося, чтобы ему было дано разрешение окончить университет, он писал: «Из провинциальных университетов я просил бы указать мне по меньшей мере такой, который не лежал бы вне черты исторической и народной Руси, как Юрьевский, Варшавский, Одесский, Томский, и где, кроме естественного и юридического факультетов, я мог бы найти возможность заниматься русской историей, филологией, археологией, церковной историей и богословием… В настоящую минуту взгляд и намерения мои могут… внушать менее опасений, чем взгляд девяти десятых учащейся русской молодежи»[13].
Ответа на это письмо не последовало, и 24 января 1901 года он отправил телеграмму в Департамент полиции: «Убедительно прошу обещанного участия в просьбе поступления в университет, поданной в октябре. Извиняюсь за беспокойство, прошу ответа»[14]. Ответа, однако, опять не последовало, и 12 февраля 1901 года он отправил следующую телеграмму начальнику Департамента полиции: «Убедительно прошу разрешить вернуться в Москву, откуда выехал на короткое время с разрешения жандармского управления, куда не пускает местная полиция, требуя разрешения Департамента. Вспоминая участие, оказанное осенью на приеме, и обещание полного содействия поступлению моему в университет ранее окончания дела, решаюсь беспокоить Ваше Превосходительство покорнейшей просьбой дать движение возбужденному более четырех месяцев запросу обо мне Министерству просвещения. Надеюсь, что тягостная неопределенность и опасения и боязнь утратить университет единственно вследствие медленного производства дела извиняют мое обращение к Вам. Не откажите снисходительно принять это объяснение и распорядиться ответом»[15]. В тот же день ему было разрешено вернуться в Москву[16].
Константину Александровичу разрешено было окончить Юрьевский университет, и его супруга, Надежда Павловна, продолжавшая находиться в то время под гласным надзором полиции, стала просить власти снять с нее административный надзор, чтобы переехать к мужу.
«В действительности единственными против меня уликами были два‐три письма ко мне, – писала она властям, – из которых можно было только заключить, что муж мой и его знакомые не скрывали от меня своих собственных конспиративных начинаний и иногда просили о таких услугах, исполнение которых само по себе еще нисколько не доказывало бы моего единомыслия с ними. Если бы производство дознания по политическим делам открывало бы больший простор для самозащиты и стремилось бы уяснить себе не одни “улики”, но хоть отчасти и саму личность обвиняемого, мне было бы очень нетрудно показать, как мало вяжется с представлением о каком‐нибудь участии в конспиративной деятельности вся моя тогдашняя жизнь в деревне, среди бесчисленных забот о хозяйстве и о детях, вдали от всяких городских “вопросов”, среди простых, богомоливых и трудящихся людей. Тогда и все, в чем я могла бы быть обвинена, оказалось бы низведенным до простой терпимости к… своему мужу и ко всему тому, в чем ему хотелось тогда видеть свою деятельность. Едва ли нужно говорить, как близко граничит подобная терпимость с тем “недонесением”, которое, в применении к мужу, самый строгий закон не вменяет в преступление. Но как бы то ни было, приговор по этому делу состоялся, и я отбыла уже почти весь срок наказания совершенно безропотно, так как нисколько не хотела отделять себя от той судьбы, которая ожидала мужа по возвращении из‐за границы. Муж мой, однако, в это время успел радикально измениться, а вместе с ним изменилась и его судьба…
При таком существенном изменении к лучшему судьбы моего мужа мое собственное положение административно ссыльной утрачивает в моих глазах всякий смысл и становится очевидной ненормальностью. Я никогда не разделяла его прежних, страстно односторонних, искусственных и нетерпимых взглядов и, наоборот, узнаю свои верования во многом, что составляет основу его теперешних воззрений и симпатий. Самое письмо его к товарищу министра есть столько же дело моей совести, сколько и его собственной и поэтому должно отразиться не только на его собственном, но также и на моем, вернее, нашем общем положении»[17]. В 1902 году Надежда Павловна была «освобождена от гласного надзора полиции»[18].
Окончив университет, Константин Александрович поселился в Москве, заняв должность присяжного поверенного. После пережитых испытаний и переосмысления прошлой жизни, он стал глубоко церковным человеком. Его дочь в начале Великого поста 1914 года, пересылая фотографию отца брату в Санкт‐Петербург, писала: «Посылаю тебе портрет папы, снятый на пятый день его поста. Он до сих пор ничего не ест и не пьет, кроме дистиллированной воды (уже семь дней)… и… страшно похудел…»[19].
Летом 1917 года, после того как в стране вслед за Февральской революцией началась разруха, Константин Александрович переехал вместе с семьей в Тюмень. После прихода к власти большевиков, некоторые из которых были соратниками его по прошлым заблуждениям, Господь дал ему возможность не только на словах подтвердить истинность своего прихода к вере, но и свидетельствовать о Христе мученической кончиной.
В апреле 1918 года был арестован правящий архиерей Тобольской епархии епископ Гермоген (Долганев): его перевезли в Екатеринбург, где заключили в арестный дом, располагавшийся вблизи Сенной площади. Вскоре после этого Тобольским епархиальным съездом в Екатеринбург была направлена специальная делегация, в которую вошел и К. А. Минятов.
Как писалось впоследствии в Тобольских епархиальных ведомостях, «советская власть об освобождении владыки на поруки сначала не хотела и слышать»[20]. Однако оказалось, что член Облсовета, член Коллегии Екатеринбургской ЧК С. Е. Чуцкаев был товарищем Константина Александровича Минятова по Университету. Во время переговоров делегаты «получили от него уверения»[21], что владыка будет переведен из тюрьмы в монастырь. «Минятов мне подробно рассказал свой разговор со старым товарищем, – вспоминал позже один из участников тех событий, – и был очень доволен результатами»[22]. Во время переговоров делегаты «получили от него уверения»[23], что владыка будет переведен из тюрьмы в монастырь. «Через несколько дней, после целого ряда мытарств, пережитых депутацией при посещении всякого рода “совдепов”, – сообщалось в прессе, – в качестве необходимого условия для перевода владыки в Тюменский монастырь было предложено внесение суммы не более не менее как в сто тысяч (!)»[24].
Не смотря на неисполнимость этого требования, члены делегации неутомимо продолжали свои хлопоты. В конце концов областной совет «вступил на путь торга и, постепенно уменьшая запрошенную сумму, низвел ее до 10 тысяч»[25]. Деньги при помощи местного духовенства были получены от коммерсанта Д. П. Патрушева и переданы властям. Однако, забрав условленную сумму, власти и не собирались освобождать владыку. «Члены депутации, будучи поражены таким дерзким нахальством лицемерия и лжи тех, кто как бы то ни было выдавал себя за правительственную власть»[26], – писалось в Тобольских епархиальных ведомостях, пытались отстаивать справедливость и добиваться исполнения договоренности, тем более, что С. Е. Чуцкаев был прежде товарищем К. А. Минятова. Однако вместо того, чтобы отпустить епископа, было решено арестовать самих членов делегации. Уйдя в Облсовет в субботу 2/15 июня, никто из них больше не возвратился …
Между тем, владыка Гермоген ничего не знал о происшедшем и сильно беспокоился. «Если есть что от наших страдальцев из-за меня, то принесите»[27], – писал он уже 16 июня о. Николаю Богородицкому. А еще через два томительных дня неизвестности и беспокойства он передает ему же такую просьбу: «Дорогой о. Николай, я сильно стал беспокоиться за моих гостей и ходатаев… Боюсь прямо, как бы их не арестовали из-за меня непотребного. <…> Будьте добры при всех трудностях посетите наших, ибо я не на шутку обеспокоен»[28]. Впрочем, некоторое успокоение владыка получил, узнав, что «по наведенным справкам в числе заключенных в Екатеринбурге членов делегации не значится»[29]: это давало повод верить слухам, будто они высланы обратно в Тобольск…
А вскоре из Тобольска приехала на поиски мужа Надежда Павловна Минятова. В гостинице она нашла его вещи. Чуцкаев, к которому она обратилась, как к старому приятелю супруга, вначале ответил ей, что она лжет, говоря о его исчезновении, но потом все же разрешил зайти через два дня. При втором посещении ей было объявлено, «что Гермоген “отдан” некоему комиссару Хохрякову, свирепствовавшему в Тобольске, и увезен им с собой на фронт и, по всей вероятности, с ним же увезен Минятов и вся делегация» (какая циничная ложь!). Когда же стало известно об убийстве Владыки и неких из его соузников, «несчастная жена и дочь Минятова приставали к кому могли; их оскорбляли, над ними издевались и не могли сказать хотя бы, что Минятов убит»[30], – рассказывали современники.
Об их мученической кончине стало известно лишь много лет спустя. В 1964 году бывший екатеринбургский чекист, участник убийства Царской Семьи Г. П. Никулин рассказал следующее. «Такой был у меня дружок — Валька Сахаров. [И] вот мы однажды расстреляли «чехословака» одного, попа ли, шпиона [ли]… Причем, там еще [и] представителей из Тобольска, которые приехали хлопотать за епископа Гермогена.
Ну, их, значит… Они приехали… их сгребли и туда повезли — в лес. Расстреляли и бросили, понимаете, тоже в шурф. Ну, [а] шурф оказался неглубоким.
[И] вот [мы] с Валькой договорились, [что] надо поехать [и] посмотреть, что они там.
Оседлали лошадей, сели на них и поехали. Едем так, подъезжаем к лесу. Слушаем, — что такое? Вой какой-то. Невероятный вой. Едем дальше, — еще слышим: вой, грызня какая-то идет. Оказывается, там уже волки расправляются, понимаете, над этими…
Мы их, конечно, выстрелами разогнали, а сделать ничего не смогли. Некогда было. [И] потом, там такая почва каменистая!»[31].
Таким образом, из рассказа палача стало известно, что все члены делегации были убиты близ Екатеринбурга. И случилось это, скорее всего, в самый день их ареста – 2/15 июня 1918 года (держать их под арестом смысла не было – необходимо было лишь поскорее избавиться от этих надоедливых ходатаев)[32].
В 2000 году мученик Константин Минятов был прославлен в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской; в 2018-м его имя включено в Собор Екатеринбургских святых.
[1] Печатается по материалам: Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. / Сост. иг. Дамаскин (Орловский). Июнь. – Тверь, 2008. С. 344–353.
[2] ГАРФ. Ф. 102. 7 дел‐во. Оп. 197. Д. 493. Л. 1 об.
[3] ГАРФ. Ф. 102. 7 дел‐во. Оп. 197. Д. 493. Л. 11.
[4] ГАРФ. Ф. 102. 7 дел‐во. Оп. 197. Д. 493. Л. 2.
[5] ГАРФ. Ф. 102. 7 дел‐во. Оп. 197. Д. 493. Л. 2.
[6] ГАРФ. Ф. 102. 7 дел‐во. Оп. 197. Д. 493. Л. 2.
[7] ГАРФ. Ф. 63. Оп. 17. Д. 604. Л. 50.
[8] Семья Марины и Аглаи Ягодовских (сборник генеалогических материалов). Семейный архив. С. 160.
[9] ГАРФ. Ф. 102. 7 дел‐во. Оп. 197. Д. 493. Л. 11 об–12.
[10] ГАРФ. Ф. 102. 7 дел‐во. Оп. 197. Д. 493. Л. 12.
[11] Семья Марины и Аглаи Ягодовских (сборник генеалогических материалов). Семейный архив. С. 160.
[12] Семья Марины и Аглаи Ягодовских (сборник генеалогических материалов). Семейный архив. С. 165.
[13] Семья Марины и Аглаи Ягодовских (сборник генеалогических материалов). Семейный архив. С. 165.
[14] ГАРФ. Ф. 102. 7 дел‐во. Оп. 197. Д. 493. Л. 20.
[15] ГАРФ. Ф. 102. 7 дел‐во. Оп. 197. Д. 493. Л. 24–25.
[16] ГАРФ. Ф. 102. 7 дел‐во. Оп. 197. Д. 493. Л. 27.
[17] Семья Марины и Аглаи Ягодовских (сборник генеалогических материалов). Семейный архив. С. 159–160.
[18] ГАРФ. Ф. 63. Оп. 17. Д. 53. Л. 56.
[19] Семья Марины и Аглаи Ягодовских (сборник генеалогических материалов). Семейный архив. С. 175.
[20] Анисимов А., прот. Епископ Гермоген Тобольский в Екатеринбургском заключении // ТЕВ. 1919, № 1–2. С. 22.
[21] К обстоятельствам тюремного заключения и смерти Владыки Гермогена. // ТЕВ. 1918, № 18, 19, 20. С. 314.
[22] К обстоятельствам тюремного заключения и смерти Владыки Гермогена. // ТЕВ. 1918, № 18, 19, 20. С. 314.
[23] К обстоятельствам тюремного заключения и смерти Владыки Гермогена. // ТЕВ. 1918, № 18, 19, 20. С. 314.
[24] Анисимов А., прот. Епископ Гермоген Тобольский в Екатеринбургском заключении // ТЕВ. 1919, № 1–2. С. 22.
[25] Анисимов А., прот. Епископ Гермоген Тобольский в Екатеринбургском заключении // ТЕВ. 1919, № 1–2. С. 23.
[26] Анисимов А., прот. Епископ Гермоген Тобольский в Екатеринбургском заключении // ТЕВ. 1919, № 1–2. С. 23.
[27] Анисимов А., прот. Епископ Гермоген Тобольский в Екатеринбургском заключении // ТЕВ. 1919, № 1–2. С. 23.
[28] Анисимов А., прот. Епископ Гермоген Тобольский в Екатеринбургском заключении // ТЕВ. 1919, № 1–2. С. 23.
[29] Анисимов А., прот. Епископ Гермоген Тобольский в Екатеринбургском заключении // ТЕВ. 1919, № 1–2. С. 23.
[30] К обстоятельствам тюремного заключения и смерти Владыки Гермогена. // ТЕВ. 1918, № 18, 19, 20. С. 314.
[31] Запись беседы с Г. П. Никулиным, состоявшаяся 13 мая 1964 года в помещении Государственного Комитета СССР по радиовещанию и телевидению Совета министров СССР // Исповедь цареубийц. Подлинная история великой трагедии. Убийство Царской Семьи в материалах предварительного следствия и в воспоминаниях лиц, причастных к совершению этого преступления. — М., 2008. С. 240.
[32] Тем не менее, поскольку точная дата их смерти остается пока неизвестной, память их празднуется в день мученической кончины епископа Гермогена (Долганева) – 16/29 июня.